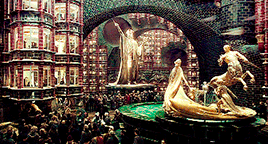Мир сжимается до трех гниюще-живых ран, пульсирующих язв, проросших сквозь плоть.
Первая — глухое, разрывающее давление внизу живота, где что-то массивное и мокрое вколачивает его в липкий, пропитанный чужими жизнями винил. Каждый толчок — хлюпающий удар, отзывающийся эхом в пустоте под ребрами.
Вторая — ослепительная, визжащая полоса пламени на левом плече, будто кто-то проводит по нему паяльной лампой, медленно, наслаждаясь шипением обугливаемой кожи.
Третья — высокочастотный вой в черепной коробке, где огневиски и первобытное отвращение сплавились в один непрерывный звон лопнувшей струны в опустевшем зале.
Он тонет в субстанции теплее крови и гуще гноя. В собственном разложении, принявшем форму клуба. Тяжелое, хриплое дыхание за его спиной обжигает шею паром. Пар пахнет гнилыми миндалинами, перегаром и затхлой водой из цветочной вазы, где неделю назад умерли розы. Каждый выдох оседает на коже кисловатой, липкой росой. Его голова вдавлена во что-то шершавое и влажное — в обивку, источающую запах старой спермы и пота, или, возможно, в жирную спину предыдущего посетителя. Он смотрит в потолок, в черную, пульсирующую мембрану, усыпанную желтыми пятнами плесени и жирными отпечатками тел, что сейчас отскакивают в такт глухому, аритмичному биту, под который удобно хоронить надежды. Отвратительно.
Не боль, а таинство осквернения. Литургия, где он играет роли и жертвенного агнца, и алтаря, и священника, мажущего себя нечистотами. Каждое движение — не просто проникновение. Это медленное, методичное разделение существа на две половины. Той, что еще помнит чистый запах зимнего воздуха в Хогвартсе и мелодии Боуи из дешевого радио, и той, что уже стало частью этой вонючей, стонущей массы.
Кажется, он слышит скрип собственных тазовых костей или ржавых петель в заброшенной часовне. Его руки раскинуты в немом кризисе, ладони прилипли к холодной, липкой, как засахарившаяся рана, поверхности. Пальцы судорожно впиваются в швы, пытаясь найти опору в этом кишечнике мироздания, чтобы не вывернуло наизнанку.
Посреди ада — жужжание. Пронзительное, металлическое. Оно ввинчивается в висок, сверлит череп, находит отклик в самой кости. А на плече, поверх старого шрама-исповеди, теперь расцветает новый, паразитирующий ритуал. Не жжение, а препарирование. Кто-то работает с его плотью инструментом, который не входит, а отдирает. С каждым вибрирующим прикосновением он чувствует, как отделяется тончайшая плёнка живого, ее поднимают, и под ней обнажается сырое, розовое, трепещущее мясо, никогда не видевшее света. И в эту открытую, стерильную ужасом рану, вбивают что-то чужеродное. Будто не краску, а прах. Мелко перемолотый прах чего-то когда-то святого, смешанный с ржавчиной и цинком отчаяния. Процесс монотонный, гипнотический, почти медитативный в своем насилии.
Его здесь не должно быть. Не зря же так долго отказывался.
Он хочет закричать, но вместо этого находит горлышко бутылки. Огневиски. Не зря притащили с собой. Оно, однако, не горит, а размягчает изнутри. Как кислота размягчает хрящ. Все границы расползаются. Боль от жужжащего инструмента сливается с дискомфортом от ритмичных толчков, потому что долбаеб с тату-машинкой не догадался взять блядский стул и теперь пытается умоститься на том же диване. И все это замешивается на воспоминании о том, как несколько часов назад на него вывалили все грехи и вскрыли нарывы. Швы от этой внутренней операции рвутся здесь, под натиском чужих бедер и вибрацией, идущей откуда-то сверху.
Рядом, в сантиметре от бока, извивается другая форма жизни. Две тени, сросшиеся в один потный, чавкающий симбиоз. Девушка. Ее лицо искажено гримасой, которая должна изображать экстаз, но выглядит как предсмертный спазм выброшенной на берег медузы. Ее ноги, в рваных колготках со стрелками, судорожно сжимаются на пояснице мужчины. Блузка порвана на груди, и через дыру виден дешевый кружевной бюстгальтер, покрытый катышками. Купи себе, блять, новый и не позорься. И ее профиль, выхваченный вспышкой умирающего стробоскопа, врезается в мозг Барти, как заноза под ноготь.
Рори ушел с такой же. Лицо было знакомым. Она не смотрела в глаза Барти дольше секунды и пыталась прикрыться волосами.
Лифт Министерства. Запах старой бумаги, воска для паркета и вечного, приглушённого страха. Она жмётся в угол, держа папку, как щит. Ее взгляд — быстрый, расчетливый, насекомоподобный — скользит по нему, по его отцу. В нем нет уважения. Есть оценка полезности, потенциальной угрозы или выгоды. Еще один Крауч. Можно использовать, игнорировать или, в крайнем случае, устранить. Она — шестеренка. Самая маленькая, самая ничтожная, но без которой бюрократическая машина скрипит. И эта шестеренка сейчас, наверное, получает свое нехитрое, животное удовольствие за закрытой дверью. Cazzo, как же противно.
Алкоголь, боль, физиологическое отвращение — все испаряется, оставляя после себя только стерильную пустоту, готовую всосать и ассимилировать источник раздражения. У Рори есть ебучая метка. Любой в министерстве в курсе, что это значит.
Жужжание прекращается. Тяжелая, волосатая рука, от которой пахнет машинным маслом, потом и чем-то сладковато-гнилостным, шлепает его по месту, где теперь пылает новая. «Готово, красавчик. Шедевр». Голос похож на звук переворачиваемого гравия. На плече теперь вместо шрама
Движения сбоку тоже затихают, сменяясь тяжлым, сопящим дыханием и резким звуком застегивающейся ширинки. Барти сидит неподвижно. По его спине, смешиваясь с потом и какой-то чужой влагой, стекает что-то теплое и густое. Не кровь. Слизь. Та самая, что выделяет тело в состоянии крайнего, запредельного стресса, когда оно уже не понимает, что с ним делают. Или, может, ему кажется. Он же просто драматизирует, в конце концов. Его плечо теперь отдельная планета. Горящая, пульсирующая, с только что нанесённой на неё картой нового, безумного неба. Печать. Клеймо. Его личный герб на пергаменте из собственной плоти.е
Он отрывается от поверхности с глухим, отлипающим звуком, будто с него снимают пластырь, приклеенный на гнойную, незаживающую рану. Находит свою водолазку, частично погруженную в темную лужу. Мокрая ткань прилипает к месту пыток на плече с такой силой, что у него темнеет в глазах и на миг перехватывает дыхание. Это уже не одежда, а блядский саван, пропитанный соками этого места. И он только что сам, добровольно, в него завернулся.
Рори, конечно, уже свалил. Утащил свою добычу в самую глубь этого лабиринта, к его слепым кишкам и паразитам. Барти знает куда. Туда, где стены плачут черным конденсатом, а на полу лежат матрасы, впитавшие в себя историю всех мелких смертей, что здесь происходили.
Он вываливается из ниши в коридор, и пространство немедленно поглощает его. Это даже не проход, а пищеварительный тракт клуба. Стены — влажные, упругие, покрытые бархатистым черным грибком, светящимся тусклым, больным зеленоватым светом, как гниющее мясо светлячка. Воздух — густой, вязкий, как кисель из разложившихся амбиций. Им нельзя дышать. Им можно только давиться, и каждый глоток приносит в легкие взвесь талька, прогорклых духов, спермы, рвоты и той неуловимой субстанции общественной безнадеги, что въедается в нити нервных.
Его немедленно поглощает поток тел. «Скучно одному, красивый?» — сипит голос из темноты, и в нем слышится не соблазн, а скука палача, выполняющего рутинную работу по утилизации. Чья-то чужая рука уже тянется вниз, к его ширинке, движением привычным, механическим, лишённым даже намека на желание. Он не отталкивает ее. Он просто замирает, превращаясь в статую, в которую продолжают втирать грязь всех собравшихся. Это, в своем роде, искусство. Квинтэссенция безразличия вселенной, принявшего форму человеческих конечностей и липких ладоней.
Как жаль, что Барти ненавидит искусство.
Кто-то толкает его грудью в спину, прижимая к стене, которая отдает сыростью и холодом. Он чувствует на своей шее прикосновение чьих-то губ — холодных, влажных, абсолютно безразличных. Они не целуют, просто протирают кожу, как салфеткой, оставляя мокрый след. Рука, унизанная дешевыми перстнями без толики смысла, впивается ему в бок, оставляя синяк даже через ткань.
Как хорошо, что свои украшения он к чертям снял.
Его лицо на миг погружается в спутанные волосы, от которых пахнет плесенью, дешевой краской и глубоким, экзистенциальным тлением. Он чувствует под тонким слоем плоти каждый позвонок незнакомки, к которой его прижали — хрупкий, птичий скелет. Отвратительно. Гадко и грязно. В идеальном мире такие места горят адским пламенем.
И сквозь этот гул, сквозь рев собственной крови в ушах, он вычленяет это. Ее смех. Тот самый. Визитная карточка мелкой чиновничьей крысы, добившейся в жизни ровно ничего. Высокий, пронзительный, искусственный, как звонок будильника в понедельник утром. И тут же захлебывающийся в своей тупости Рори, полный тупого, животного восторга.
У какого-то идиота в коридоре из заднего кармана торчит перочинный ножик. Кто-то, видимо, считает это сексуальным. Барти не замечает, в какой момент эта пародия на оружие оказывается в него в руках. Видимо, клептомания все же заразна.
Щель под дверью. Черная, тонкая, как лезвие бритвы, проведенной по запястью. Из нее сочится жар разлагающейся органики, тепло гниения и запах дешевых духов с удушающим альдегидным букетом, смешанный с телесностью, потом и чем-то металлическим. Кровь пахнет не так. Ею будет смердеть здесь чуть позже.
Барти замирает. Внутри него рушится последняя бутафорская стена. Весь шум, вся боль и отвращение проваливаются в образовавшуюся бездну, и оставив место для вакуума, в котором парит единственная мысль, отточенная и острая, как хирургический скальпель, уже намыленный для разреза. Тупая шлюха видела метку.
Он смотрит на щель. Видит мелькание смутных теней, сливающихся и разделяющихся. Видит на полу, в полосе красноватого света, клочок ткани. Ткань мышиного, унылого, служебного цвета. Она тут. Прямо здесь, за этой деревяной преградой. Рори такой тупой, что хочется выколоть ему нахуй глаз.
Мысль не требует обдумывания. Она вспыхивает в выжженном мозгу, как последняя вспышка умирающей звезды, и оставляет после себя только вымороженную, безжизненную равнину, на которой высечено одно слово, одно приказание: ликвидировать. Лучше запачкаться, чем сосаться с дементором.
Его рука, холодная и совершенно сухая, вопреки окружающей духоте, уже лежит на ручке. Металл влажный, липкий от бесчисленных прикосновений, отпечатки пальцев наслаиваются друг на друга, как геологические пласты. Он не мстит ей. Он выполняет санитарную норму. Уничтожает биологическую угрозу. Стирает кляксу. Отпечатки стереть можно потом, пусть скажут спасибо за клининг.
Он медленно, с почти хирургической точностью, поворачивает ручку. Скрип — громкий, рвущийся, как предсмертный хрип в тишине морга. Дверь отходит на сантиметр. Из щели вырывается концентрированный, густой поток всех запахов и звуков этого маленького ада: хлюпающие, мокрые звуки, сиплое, прерывистое дыхание, ее притворные, заученные стоны и тот самый, проклятый, министерский, крысиный смешок.
Его пальцы сжимают ручку так, что кости выступают под кожей, белые и безжизненные, как у давно умершего.
Он открывает дверь.
Хоть бы у Рори были с собой сигареты.